«Бессмертие вряд ли возможно», - Паскаль Сорио, генеральный директор AstraZeneca
Генеральный директор AstraZeneca - о фармацевтических блокбастерах, персонализированных лекарствах от астмы и рака и перспективах России и Китая на рынке биотехнологий
1986
2006
2012
200 лет жизни
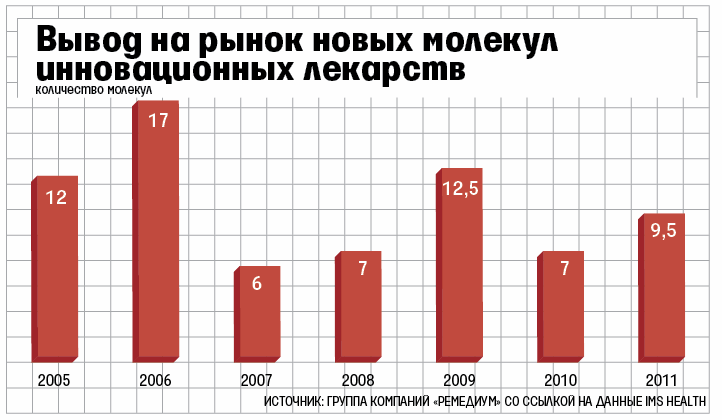
AstraZeneca
Паскаль Сорио возглавил британского производителя лекарств AstraZeneca осенью прошлого года, сменив на этом посту Дэвида Бреннана. Пришло время, чтобы кто-то другой вывел компанию на новый уровень, цитировал Bloomberg Бреннана. По итогам 2012 г. продажи компании упали на 15%, а в 2011 г. по сравнению с 2010 г. остались практически неизменными. Причина таких финансовых результатов в потере эксклюзивности на ряд препаратов, объясняла компания в отчете за 2012 г. Например, писала AstraZeneca, $3 млрд она потеряла после окончания патента на нейролептик сероквель, еще $1 млрд - после окончания сроков действия региональных патентов на три других препарата. «Мне необходимо было восстановить компанию» - так описывает Сорио задачу, которую поставили перед ним акционеры. О пользе риска для роста финансовых показателей, о том, какие лекарства будут популярны в будущем, а также о старении и бессмертии Сорио рассказал в интервью «Ведомостям».
- Не считаете пропаганду здорового образа жизни угрозой для будущего фармацевтической отрасли?
- Не думаю. Наша задача - улучшать качество жизни пациентов, поэтому все, что этому способствует, - это здорово. Даже если люди перестанут болеть сердечно-сосудистыми заболеваниями, у них все равно будут возникать состояния, связанные со старением. К тому же нельзя ожидать того, что все на земле будут здоровы.
- Но, допустим, все стали придерживаться здорового образа жизни. Какие заболевания вам остались?
- Старение. Вы слышали о компании Calico? Ее недавно основал Google. Миссия этой компании - работать именно с процессом старения, постараться найти методику, которая позволила бы вторгнуться в процесс старения и замедлить его. Поэтому если человек ведет здоровый образ жизни и будет жить дольше, то останутся болезни, связанные с долгой жизнью. Мы должны понять, что приводит к старению? Что меняет структуру ДНК? И в этом направлении работа у нас будет длиться еще очень долго.
- Вы пришли в AstraZeneca в 2012 г. Какие задачи поставили перед вами акционеры?
- Цели и задачи были достаточно простые: мне необходимо было восстановить компанию. У нас истекало большое количество патентов на препараты, исследовательское подразделение компании за предшествующие годы производило не очень много новинок. Задача была перестроить исследовательское подразделение так, чтобы вернуть компанию на курс прибыльности.
- В чем была причина небольшого числа новинок? И что вы делаете, чтобы исправить ситуацию?
- Инновации в фармацевтической отрасли - это непросто. У нас возникали сложности из-за того, что наша компания стала достаточно забюрократизированной и стремилась максимально избегать риска. Причина была в том, что за несколько лет до этого, примерно в 2007-2009 гг., компания пережила ситуации, когда исследования на финальных стадиях не оборачивались успешным выводом препарата на рынок, что стало разочарованием для инвесторов. Многие критиковали компанию также за то, что мы, возможно, переплатили за приобретение нашего биологического подразделения MedImmune. Бюрократизация же привела к тому, что в предыдущие годы мы уделяли меньше внимания проектам на ранней стадии разработки новых молекул.
Одним из моих приоритетов с момента прихода в компанию было организовать работу R&D-подразделения, упростив и ускорив процесс принятия решений при рассмотрении новых проектов. У нас есть два биотехнологических подразделения по научным исследованиям и разработкам: одно отвечает за малые молекулы (синтетические, не биологические препараты), другое за биопрепараты. Эти два подразделения получили больше независимости.
Мы пытаемся сконцентрировать усилия компании в трех терапевтических направлениях: онкология; сердечно-сосудистые заболевания и нарушение обмена веществ; респираторные заболевания, воспалительные процессы, иммунология. Мы концентрируемся на ранних стадиях исследований молекул, чтобы иметь возможность своевременно оценить их потенциал. Мы мотивируем сотрудников идти на разумный риск и переводить проекты с начальной на более продвинутую стадию разработки без лишнего промедления. И последнее: мы постарались поменять подход в работе с сотрудниками. В фокусе - привлечение первоклассных специалистов и дальнейшее укрепление команды, упрощение организации за счет сокращения количества уровней управления. Это нужно было для того, чтобы люди сами отвечали за свою работу и могли активно способствовать продвижению проектов.
- Вы говорите, что поощряете риск, но ведь разработки стоят дорого. Как найти баланс?
- Конечно, баланс нужен. При излишнем риске тратится много денег, но, если рисковать недостаточно, тоже можно оказаться в проигрыше. Здесь нет правильного или неправильного подхода. В нашей отрасли на поздних стадиях клинических исследований средний показатель успешности проекта составляет 63%. Если ваш показатель - 75-80%, то у вас все просто замечательно. Но 100%-ным успех быть не может. Потому что если это так, то вы недостаточно инновационны. Инновации всегда содержат элемент риска, иногда бывают ошибки. Поэтому мы при текущем портфеле проектов стараемся ориентироваться на цифру в 75%. А уж как балансировать - это всегда вопрос для обсуждения. В нашем портфеле есть проекты с не столь высоким уровнем научной новизны и, следовательно, более низким уровнем риска. А есть противоположные.
- Вы говорили о трех терапевтических областях, на которых решила сосредоточиться AstraZeneca. Почему именно они?
- Нам нужно было выбрать направления, поскольку мы не можем работать над всем сразу. Мы выбрали эти три, во-первых, потому, что у нас очень богатое наследие научных инноваций в лечении онкологических, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний; во-вторых, в препаратах для лечения этих заболеваний потребность очень высока. По статистике, сердечно-сосудистые заболевания - самая распространенная причина смертности в России. В лечении онкологических и респираторных заболеваний также много неудовлетворенных потребностей.
- Сейчас разрабатывать лекарства сложнее, чем, скажем, 10-20 лет назад?
- И труднее, и легче одновременно - в зависимости от направления. Сложнее разрабатывать лекарства, например, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Организаторы здравоохранения (государство или страховые компании - те, кто оплачивает лечение. - «Ведомости») требуют от препарата большей эффективности и меньше побочных явлений. Чтобы удовлетворять этим требованиям, нужно проводить очень обширные исследования. Это всегда дорого стоит, но не всегда приводит к успеху. А если его нет, то деньги потрачены впустую.
В онкологии другая ситуация. В онкологии развивается персонализированная медицина: появляется все больше возможностей подбора терапии на основании изучения генетических характеристик онкологических пациентов, что дает гарантию лучшего результата при таргетном воздействии на опухоль при наличии той или иной мутации.
В области респираторных заболеваний мы также движемся в направлении персонализированной терапии, используя потенциал биопрепаратов. Например, при астме можно определить, что именно вызывает воспаление и не позволяет эффективно контролировать заболевание, и подобрать таргетный препарат, который будет воздействовать именно на данный тип воспаления.
- Многие считают, что эра блокбастеров - препаратов, годовые продажи которых превышают $1 млрд, - в фармацевтике закончилась. На ваш взгляд, стоит ли ждать появления новых блокбастеров?
- Думаю, стоит. Но мы придаем первостепенное значение научным инновациям и интересам пациентов, пытаясь определить заболевание или категорию пациентов, которые положительно реагируют на наш препарат. Если потенциал продаж препарата - $500 млн, то мы все равно будем над ним работать. Будущее, как мне кажется, как раз за такими препаратами. В особенности в случае с онкологическими заболеваниями. Мы регулярно определяем новые формы мутаций, поэтому группа пациентов, которая реагирует на тот или иной препарат, не такая большая. Но организаторы здравоохранения, безусловно, будут заинтересованы платить за такое лечение, потому что оно дает большую эффективность.
- Некоторые компании, напротив, отмечают, что им трудно попасть с новыми препаратами в схемы возмещения.
- Конечно, есть такая проблема. Организаторы здравоохранения прежде всего ищут большей отдачи на вложенные средства, поэтому они более требовательны, чем раньше. А это значит, что отрасли приходится вкладывать средства в еще более инновационные препараты.
- Какой процент от выручки вы инвестируете в разработки?
- Сейчас - около 15-16%. В будущем мы планируем больше внимания уделять инновационным препаратам в области специализированной помощи (например, препараты для лечения онкологических заболеваний. - «Ведомости»). Поэтому я полагаю, что доля дохода, который мы реинвестируем в R&D, повысится.
- И каков ваш уровень доходности на инвестиции в R&D?
- С точки зрения исследовательской работы норма доходности у нас - от 12%. Но на это необходимо смотреть в достаточно длительной временной перспективе, поскольку в нашей отрасли бывают успешные и неуспешные периоды. Также мне кажется уместным оценивать возможность восстановления перспективных разработок. Мы в начале этого года поставили себе цель: к 2016 г. иметь 12 проектов на поздней стадии клинических исследований. Мы ускорили работы и, может быть, в следующем году у нас будут эти 12 проектов. А запуск продаж начнется в 2016 г.
- Где сейчас в основном рождаются инновации - в собственных R&D-центрах больших компаний или маленьких лабораториях?
- Повсюду. Мы тратим на исследовательскую работу $4,5 млрд в год. Но это всего лишь капля в море, если говорить о затратах на R&D во всем мире. Вот почему важно быть там, где одновременно присутствует сильная академическая наука, фармацевтические и биотехнологические компании, а также венчурные инвесторы. Это, например, Бостон и Сан-Франциско. Думаю, мы сможем создать такой центр в Кембридже - мы хотим перенести наше исследовательское подразделение из Манчестера в Кембридж. И я полагаю, что в будущем Россия и Китай могут войти в перечень ведущих биотехнологических центров мира.
- И какие для этого есть предпосылки?
- В России очень сильны научные традиции. Кроме того, я знаю, что правительство инвестирует большие средства в развитие биотехнологий в стране; здесь есть венчурный капитал. Безусловно, нужно будет время, но это случится.
- Сколько времени, на ваш взгляд, на это потребуется?
- Не могу сказать точно. Но если брать в пример Бостон, то он стал крупным признанным центром за последние 20 лет, у Сан-Франциско ушло около 25 лет.
- А для вас кто основной поставщик идей?
- У нас у самих есть интересные идеи. Кроме того, мы стараемся установить партнерские отношения с научными центрами по всему миру. В прошлом такое сотрудничество требовало одобрения центрального офиса AstraZeneca. Сейчас мы разрешили нашим биотехнологическим подразделениям вступать в партнерства по своему усмотрению, но в рамках определенного бюджета. Так мы стараемся стимулировать их активное взаимодействие с другими исследовательскими организациями.
- Некоторые страны рассматривают возможность не выдавать патенты на лекарства, если это улучшенная версия уже известных препаратов. Как такие инициативы могут отразиться на рынке в целом и на вас в частности?
- На нас это не отразится. Мы работаем в основном над инновационными препаратами, так что нет сомнений, что они получат патент. Сложности могут возникнуть в регионах или странах, которые не могут позволить себе покупать такие лекарства. Но, думаю, мы вряд ли будем работать в регионах, которые оценивают наш препарат лишь как улучшение уже существующего на рынке.
- Как вы оцениваете российскую систему здравоохранения?
- Российская система здравоохранения сейчас переживает динамичное развитие, при этом в стране сохраняется высокий уровень неудовлетворенных медицинских потребностей. Необходимо улучшать систему ранней диагностики, в особенности сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, обеспечить как более качественный доступ к лечению и более высокий уровень непрерывного медицинского образования специалистов здравоохранения, так и уровень осведомленности пациентов по вопросам здравоохранения. Обратимся к примеру со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний. В России она выше, чем в других странах, потому что нет широкой диагностики среди населения. А если есть, то на поздней стадии развития заболевания, когда, как правило, нет возможности получить быстрый доступ к эффективному лечению. От инфаркта умирают люди 40-50 лет. Их можно было бы спасти, вернуть к продуктивной жизни, применив достаточно простые схемы лечения. Повышение качества здравоохранения, безусловно, может улучшить демографическую ситуацию в России, продлить продуктивную жизнь людей.
И еще важный момент. Здравоохранение - это всегда финансовое бремя. Если его перекладывать на плечи пациентов, то рано или поздно можно столкнуться с ситуацией, когда они сами будут принимать решения, а не доверять свою судьбу профессионалам.
- А компаниям что выгоднее - когда за лекарства платит государство, страховая компания или пациент?
- Потребности у правительства и страховых компаний похожи - они ищут отдачи на вложенные средства, им важно продемонстрировать эффективность.
Проблема с оплатой самими пациентами может свестись к тому, что они не смогут оплатить дорогостоящее лечение. Но, мне кажется, пациент должен немного доплачивать за лекарства, иначе это может привести к злоупотреблениям системой.
- Систему здравоохранения какой страны вы считаете идеальной или близкой к идеалу?
- Не думаю, что идеальная система есть. Относительно хороши те из них, в которых в оплате медицинской помощи участвуют и государство, и пациент. Например, в Швейцарии государственная система здравоохранения, но люди обязаны покупать частную страховку, а страховщики обязаны пройти государственную сертификацию.
- Российские чиновники предложили ограничить участие в госзакупках иностранных компаний, если в стране зарегистрировано два и более российских аналога. Как вы относитесь к этой идее?
- AstraZeneca сейчас строит в России завод, на котором планирует локализовать полный цикл большей части препаратов (значит, эти препараты будут считаться российскими. - «Ведомости»), но мы думаем, что конкуренция должна быть справедливой. Если препарат произведен по стандартам GMP (Good Manufacturing Practice, международные стандарты качества. - «Ведомости»), если пациенты нуждаются в нем, то он вправе участвовать в торгах. И победитель должен определяться на торгах с учетом стоимости, качества, потребности. Если в фармацевтике снизить уровень соревновательности, убрать такой критерий, как качество, то издержки государства будут расти.
- Каким, на ваш взгляд, будет лекарство будущего?
- Если будущее - это через 10-15 лет, то, скорее всего, это будет что-то иммунобиологическое, дающее возможность контролировать свою собственную иммунную систему. Например, AstraZeneca и несколько других компаний сейчас работают над препаратом, который сможет таким образом настроить иммунную систему, чтобы убивать раковые клетки. В последнее время определяется ведущая роль иммунной системы и в борьбе с заболеваниями, вызванными нарушением обмена веществ, а также воспалительными процессами в тканях. В будущем иммунная система позволит бороться с ожирением. Если говорить о следующих 10 годах, то, наверное, это лечение экземы. В долгосрочной перспективе мы не знаем, что это будет за молекула, но, безусловно, что-то, что будет сдерживать процесс старения в организме.
- Вы работаете в фармацевтической отрасли больше 20 лет, не хотели бы сменить сферу деятельности?
- Зачастую задумываюсь об этом, но не представляю себе, что смогу работать еще в какой-то сфере. Чем большего прогресса добивается отрасль, тем больше она мне нравится. Есть ряд причин, которые делают фармацевтическую отрасль столь привлекательной. Во-первых, научная составляющая работы в нашей отрасли крайне интересна. Во-вторых, мы работаем в кругу чрезвычайно интеллектуальных и сильных духом людей. И, наверное, самое важное: результат нашей работы влияет на здоровье и качество жизни людей. Медицина достигла существенного прогресса, но медицина без лекарств не смогла бы дать такого результата.
- Что вы делаете, чтобы не болеть?
- Каждые выходные катаюсь на велосипеде. Но, думаю, самое основное - контроль питания и отсутствие вредных привычек. И очень важно получать удовольствие от того, чем вы занимаетесь, - это и дает ощущение здоровья.