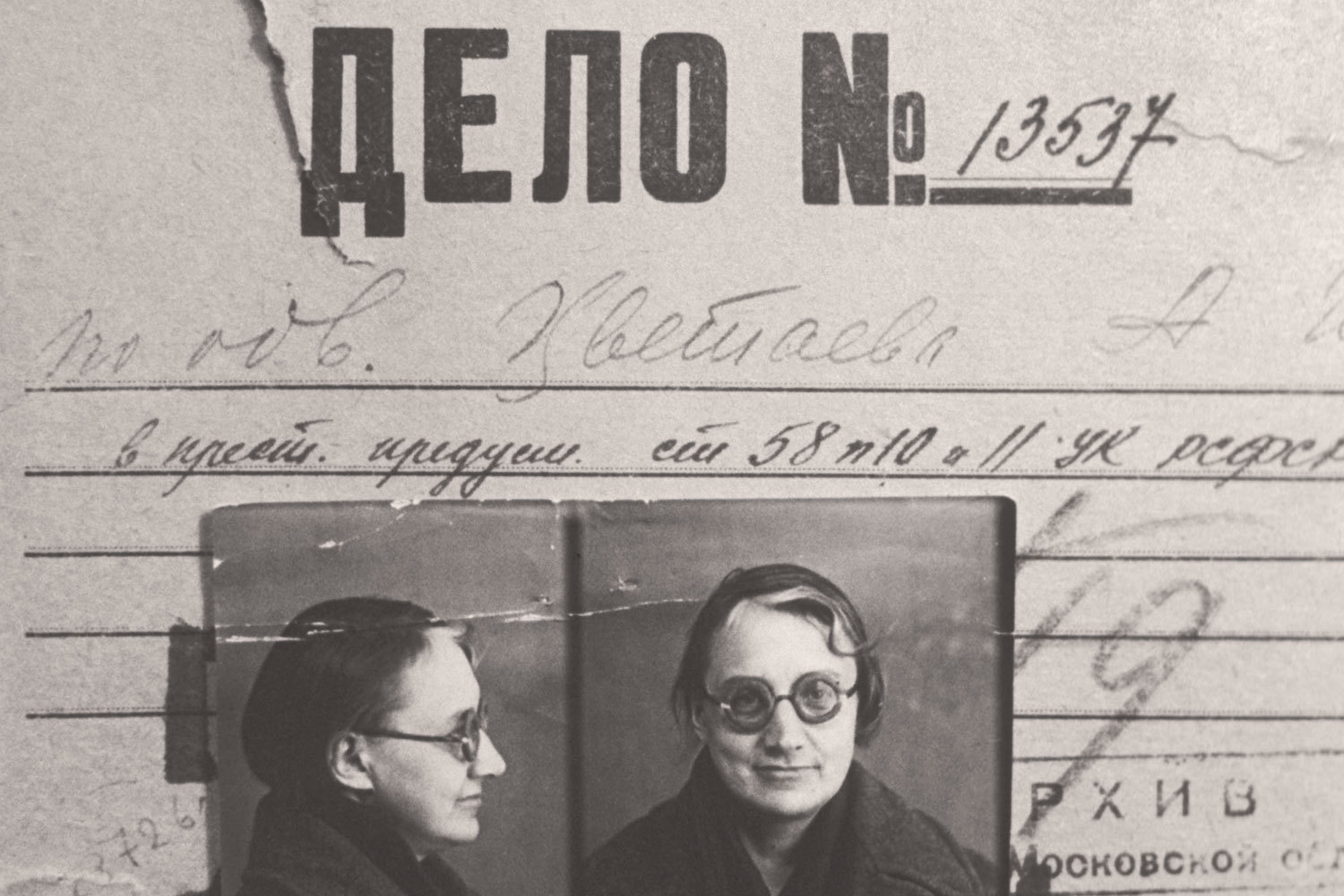Как спецслужбы стали престижными
Почти половина россиян хотели бы видеть своих детей чекистамиКлючевая роль спецслужб (в первую очередь, надо думать, ФСБ) в негласной иерархии правоохранительных структур и их бурная пиар-активность на фоне ухудшения отношений с Западом повысила престиж профессии чекиста – и не только в настоящем, но и в будущем: почти половина россиян хотели бы, чтобы их дети и внуки служили в органах.
Рост популярности спецслужб за период, практически совпадающий со временем пребывания Владимира Путина у власти, зафиксировал опрос ФОМа. В 2001 г. доля положительно и отрицательно оценивающих работу спецслужб была примерно равной: 35 и 34% соответственно, а в январе 2018 г. доля оценивших их деятельность положительно выросла почти вдвое – до 66%, а отрицательно – снизилась втрое до 12%. За это же время доля россиян, считающих службу в ФСБ привлекательной, выросла с 42 до 69% (среди молодежи до 30 лет – с 42 до 76%), а тех, кто считает ее непрестижной, стало, напротив, значительно меньше – 34 и 11% (среди молодежи – 45 и 15%). В глазах почти половины (45%) россиян служба в органах безопасности – хорошая перспектива для молодежи: столько опрошенных хотели бы, чтобы их дети и внуки стали чекистами (в 2001 г. таких было 29%).
Там, где людям дают разные варианты ответа о наиболее уважаемых профессиях и предпочтительных специальностях для детей, популярность службы в органах и в армии уступает медицинским и юридическим специальностям, но рост их престижа также налицо. По данным ВЦИОМа, в 2005 г. 14% назвали наиболее желательной для детей и внуков профессию финансиста и экономиста, 13% – юриста, 12% – врача, военнослужащего (в это понятие в опросе были включены и сотрудники спецслужб) – всего 4%. К 2017 г. на 1-е место вышла профессия врача (35%), на второе – военнослужащего (13%), юристы и экономисты набрали 11 и 9%.
Рост престижа спецслужб обусловлен усилившейся конфронтацией с Западом: сформированный прежде всего телевизором синдром осажденной крепости создает в умах необходимость отражать происки враждебных сил, отмечает заведующий отделом ФОМа Григорий Кертман. Информация о совершенных и предотвращенных терактах в России и за рубежом подтверждает смысл существования спецслужб для граждан, опасность их вмешательства в повседневную частную жизнь отходит в массовом восприятии на второй план, считает Кертман. Наконец, выпущенные в последние годы героические сериалы о чекистах ослабили негатив от репрессий советского времени. То, что в России по-прежнему происходят теракты, быстро забывается, а о несоответствии данных о количестве пойманных террористов и числе осужденных за терроризм задумываются немногие. Кроме того, на умонастроения россиян повлияла и личность Владимира Путина и многих его соратников – выходцев из спецслужб: в глазах многих это эффективный социальный лифт.
Громкие дела губернаторов, экс-министра Алексея Улюкаева, высокопоставленных сотрудников МВД и СКР убедили россиян, что ФСБ победила соперников в негласной схватке спецслужб и заняла высшую позицию в их иерархии. Она стала всеобщим контролером – и правоохранительных структур, и госаппарата, полагает политолог Николай Петров. Люди видят, что именно чекисты, а не бизнесмены или чиновники – настоящие хозяева положения в стране и хотят такого же жизненного успеха для близких. Это вдвойне прагматичный выбор: в декабре 2014 г., по данным ВЦИОМа, 62% тех, кто хотел для детей карьеры чекиста, назвали такую работу престижной, а 46% – высокооплачиваемой.