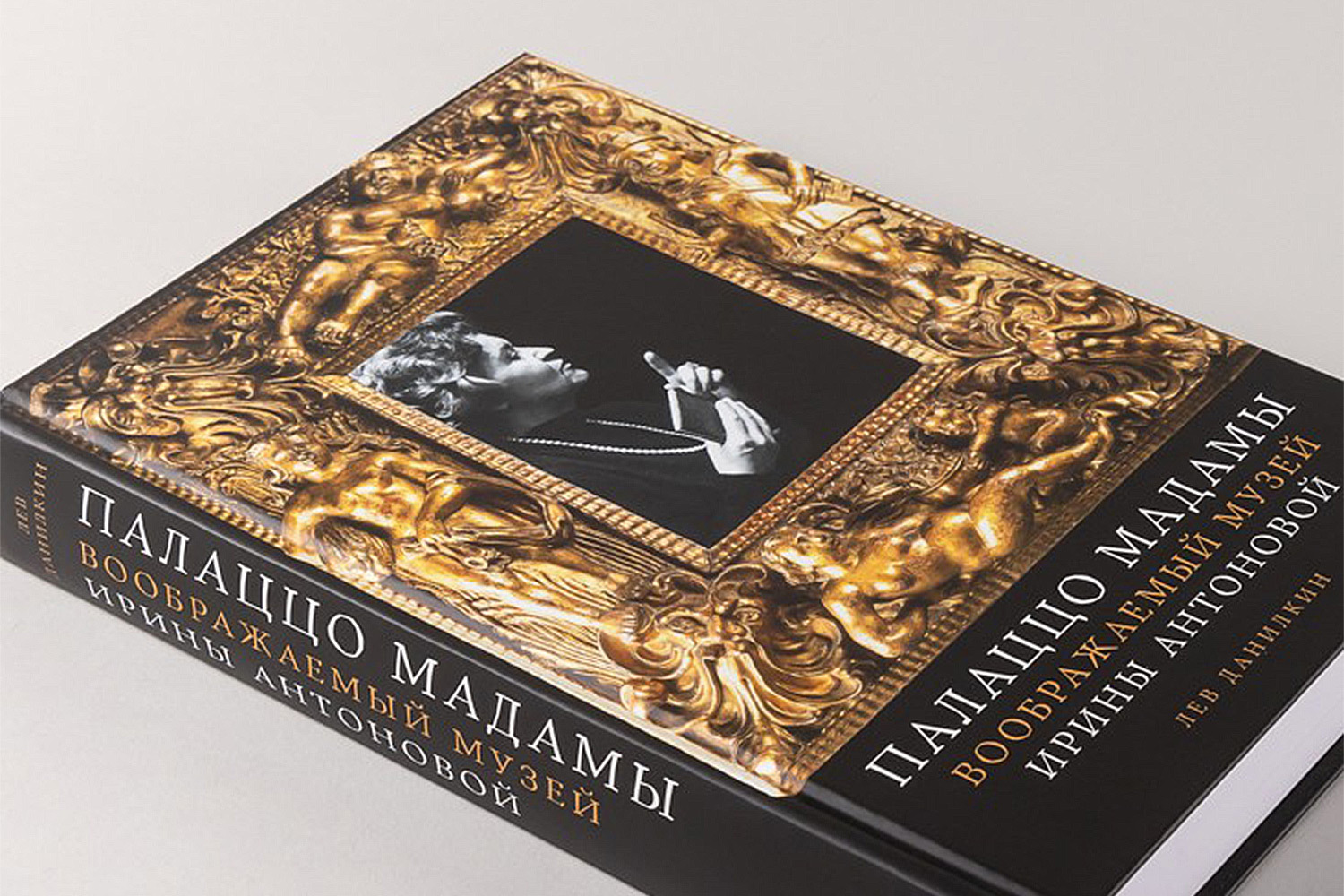Рассказывает директор Центра управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы Сколково Алексей Анищенко
Ф илантропия нуждается в такой же системности, что и бизнес, – с оценкой рисков, результатов и перспектив, уверен директор Центра управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы Сколково Алексей Анищенко.
На каком уровне находится филантропия в современной России?
Для наглядности я бы сравнил филантропию с фондовым рынком, этапы развития примерно такие же. Сначала все хаотично – без стандартов, участников много, и каждый движется, как считает нужным. Затем начинается упорядочивание. Формируются правила, укрупняются игроки. Наконец, происходит профессионализация отрасли. Появляются законы, прогнозируемый объем рынка, инфраструктура, глоссарий. По моим наблюдениям, филантропия в России вплотную подобралась к этому этапу. Мы с Рубеном Варданяном стараемся делать филантропию профессиональной, опираясь на международный опыт и учитывая внутренние особенности.
Чем российская филантропия отличается от существующей в других странах?
Прежде всего самими филантропами. Большинство крупных бизнесменов в России – это первое поколение владельцев капитала. Они продолжают активно заниматься основным бизнесом и относятся к филантропии «фрагментарно» – как к отдельному небольшому направлению, а не сквозной теме своей деятельности. Выбор фонда или проекта часто продиктован просьбой человека, к которому есть доверие.
Именно личностный фактор, а также быстрые понятные результаты – главные мотиваторы благотворительности среди состоятельных людей. Таковы данные исследования «Российский филантроп», которое провели в 2018 году Центр управления благосостоянием и филантропии Сколково и банк UBS. Мы оценили российский филантропический рынок в 400 млрд рублей. Наибольшей поддержкой пользуются проекты, которые помогают детям (свыше 70%), затем – помощь малоимущим (около 50%), религия (30%), образование и наука (17%).
Объем рынка США в десятки раз больше, а доминирующие темы помимо религии – поддержка образования и предпринимательства. Опять же в США достаточно большая доля пожертвований – это завещания; когда владелец капитала перечисляет часть состояния университетам, школам или больницам. Там же развита практика эндаумент-фондов. Мы пока находимся на более ранней стадии, эндаумент-фонды только начинают распространяться.

Как меняется отношение состоятельных людей к благотворительности?
Мне кажется, изменения происходят естественным путем. Владельцам капитала по 50–60 лет. Они построили бизнес, вырастили детей и, возможно, внуков. Есть ресурсы, опыт, энергия. Благотворительность может стать не только дальнейшей самореализацией, но и – объединяющим делом для всей семьи. Эта тема не такая конфликтная по сравнению с бизнесом, с мощным положительным зарядом – «Мы вместе делаем добро».
По нашим подсчетам, в России есть 3000–5000 семей с состоянием не менее $50 млн и где-то 200 000 семей с $1 млн, но при этом крупных семейных фондов лишь несколько десятков. Все эти семьи потенциально могут задуматься о филантропии как общей семейной ценности. Но тут важно, чтобы этот подход разделяли все члены семьи. Я знаю случай, когда благотворительностью занимался сын, а отец решил присоединиться и начал активно помогать советами «как правильно». Восторга со стороны сына не было: он расценил это как вторжение на его территорию.
Вот, кстати, как правильно интегрироваться в этот мир?
Для начала надо понять, на каком уровне вовлеченности в благотворительность находится человек. Из нашей практики общения можно выделить три группы. Первая – люди, которые мало занимались филантропией; на них приходится 30%. Тут ведутся базовые разговоры: что такое филантропия, какие бывают подходы, сферы. Главное – помочь человеку разобраться с его собственной мотивацией.
Вторая группа самая многочисленная – 60%; люди, которые так или иначе занимаются благотворительностью. Здесь возникает вопрос системности: что будет с поддерживаемыми проектами через 20 лет; какие есть альтернативные источники финансирования кроме прямого вливания – тот же эндаумент-фонд. Люди в третьей группе уже ведут системную филантропию – это оставшиеся 10%. Им важна оценка результатов, социального влияния (social impact). Кроме того, они хотят повысить эффективность пожертвований. Мы помогаем владельцам капитала определиться с мотивацией и стратегией и двигаться к системной филантропии.

Почему это так важно?
Здорово, когда владелец капитала отзывается и выделяет деньги на экстренную операцию. Он получает мгновенную дозу дофамина, чувствует себя альтруистом. И это одна из важнейших мотиваций. Но если человек занимается благотворительностью системно, то он замечает не только эмоциональные призывы о помощи – он начинает видеть глубже и дальше. В этой области много «неэмоциональных» проектов с небыстрой отдачей, в отличие от срочной операции, – например, обучение врачей. Есть проекты, которые работают на улучшение в целом благотворительного сектора, – IT-платформы, образовательные курсы, исследования, законодательные инициативы и т. д. Тут надо участвовать не только деньгами, но и временем, энергией.
Какой подход в таком случае оптимален?
Опять возьму аналогию из финансового мира: подходить к филантропии как к инвестированию, когда собирается портфель из разных активов по доходности, рискованности, ликвидности. Так и здесь можно сформировать портфель проектов – с быстрыми и долгими результатами, разной тематики, с разной персональной вовлеченностью.