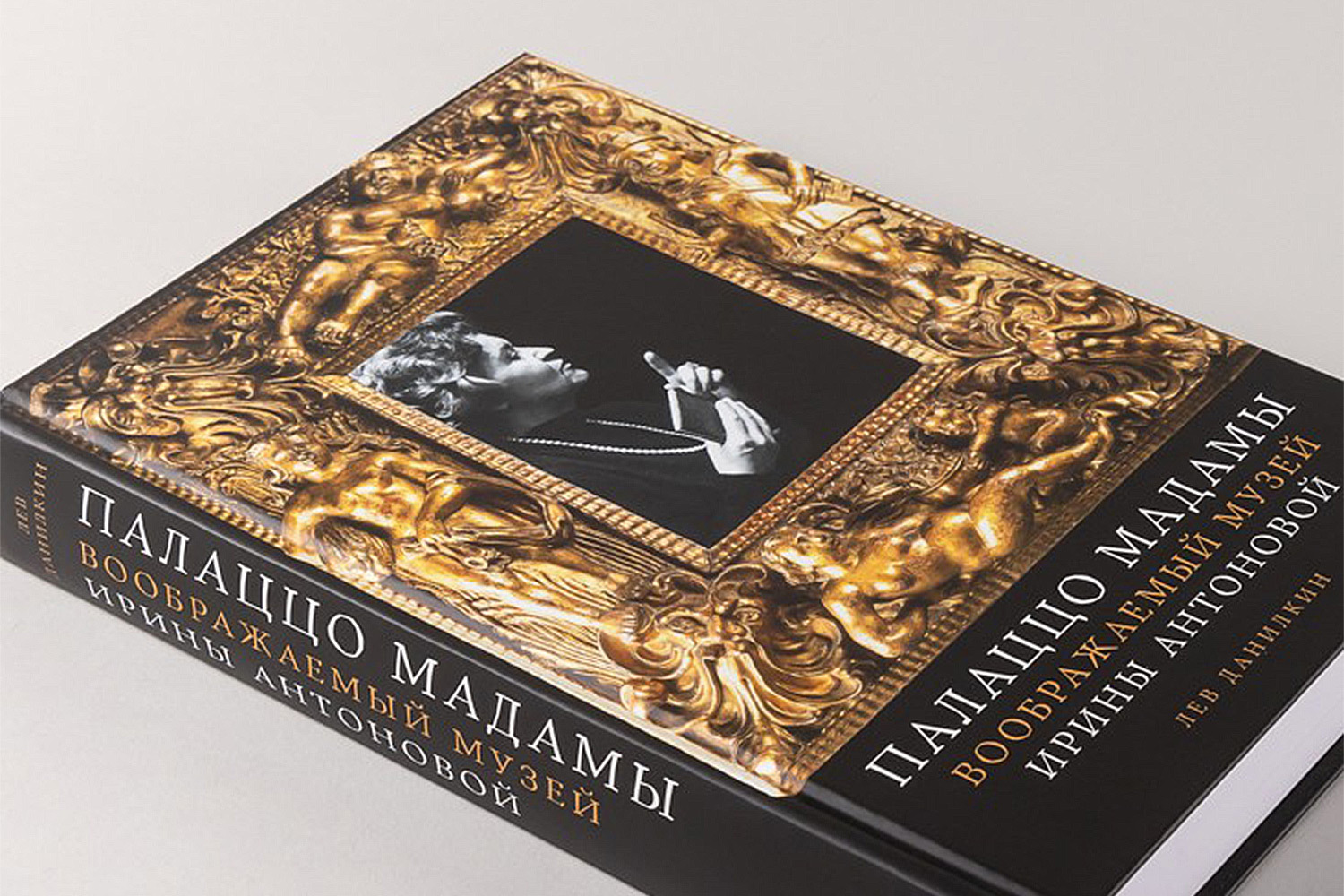Ровно век прошел со дня открытия Выставки декоративного искусства в Париже
С то лет назад, 28 апреля 1925 года, в столице Франции открылась Международная выставка декоративного искусства и промышленности (Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes), давшая старт новому стилю, который сегодня мы знаем как ар-деко.
Грандиозное мероприятие планировалось загодя, но все карты смешала Первая мировая война: изначально смотр думали провести в 1914-м. К 1925-му уже готовились, как греки к афинской Олимпиаде в 2004 году, – в ритме сиртаки, который все ускоряется к кульминации: собственно, 28-го числа камеры фотографов щелкали в основном во время официальных речей в главном выставочном комплексе Гран-Пале, отдельные же павильоны еще лихорадочно достраивались и открылись только в начале лета (выставка проходила до октября). Как, например, павильон СССР по проекту Константина Мельникова, принявший публику лишь 4 июня. Он, кстати, очень понравился уже тогда великому Ле Корбюзье, который со свойственным ему максимализмом говорил, что это единственное, на что тут стоит посмотреть. Все остальное на Экспо ему, модернисту до мозга костей, казалось буржуазным, элитарным – и пошлым. Есть версия, кстати, что именно он первым назвал новый стиль, который демонстрировала выставка, «ар-деко», в переводе с французского «декоративный стиль». И в устах авангардного архитектора это был совсем не комплимент.
Колоссальная территория Экспо по обе стороны Сены вокруг моста Александра III вмещала как общие выставочные площадки, так и павильоны отдельных стран (больше 20 участниц), отраслей промышленности и различных регионов Франции. Страна-организатор видела в выставке возможность продемонстрировать присущий Франции стиль и лоск, и две третьих всей экспозиции были заняты французами: декораторами, кутюрье и отдельными производствами. Например, тут был павильон исторической Севрской фарфоровой мануфактуры, павильон мастеров серебряных дел Christofle, павильоны Бретани и Нанси и даже знаменитого парижского универмага Галереи Лафайет. На выставку из европейских стран, по понятным причинам, не пригласили Германию, только что проигравшую в войне, и, уже по своей воле, не успев сформировать экспозицию, не приехали США. Это занимательный факт, ведь вскоре ар-деко расцветет как раз по ту сторону океана.

Экспо-1925 пестрело первыми именами архитектуры и дизайна. Павильон Бельгии создавал Виктор Орта, Австрии – Йозеф Хоффман, Италии – Армандо Бразини, СССР – Константин Мельников (а Клуб рабочих, Избу-читальню – Александр Родченко). Один из французских павильонов для газеты L’Esprit Nouveau выстроил Ле Корбюзье. Павильон, посвященный туризму, спроектировал Роберт Малле-Стивенс. Публику поразила экспозиция Рене Лалика, перед которой был воздвигнут 15-метровый хрустальный фонтан. На Экспо демонстрировался фарфор одного из пионеров ар-деко, итальянского дизайнера и декоратора Джо Понти, и картины главной художницы ар-деко Тамары Лемпицки. Выставка стала своего рода энциклопедией всего нового, что предлагала тогдашняя индустрия дизайна и декора.
Ключевым павильоном Экспо, на который впоследствии опирались многие мастера ар-деко, стал так называемый «Павильон коллекционера», представлявший остро модные интерьеры. Архитектор Пьер Пату спроектировал изящное и вместе с тем лаконичное ступенчатое здание, напоминающие древние зиккураты: с белоснежными фасадами, украшенными рельефами на античный манер и перетекающими друг в друга внутренними пространствами (впоследствии Пату прославился интерьерами трансатлантических лайнеров, декорированных в стиле ар-деко и как раз привлекших внимание богатых американцев к этой эстетике). Внутри же гостям открывалось роскошное зрелище, в котором геометричные формы сочетались с дорогими и броскими материалами. Прежде всего это была мебель Жака-Эмиля Рульманна, главного мебельщика ар-деко, выполненная из ценных пород дерева и декорированная деталями из бронзы, инкрустацией из слоновой кости и маркетри из перламутра. Лаконичные формы в сочетании с дорогой отделкой давали эффект «Вау!».
«Дом коллекционера» включал весь набор помещений: от гостиной до столовой и спальни, и служил своего рода альбомом, из которого можно было черпать уже готовое вдохновение (что в 1930-х и делали, в частности, уже американские дизайнеры). Стены были украшены эффектными обоями ручной работы и современными гобеленами, на полах – ковры с модными узорами, имитирующими птичье оперение, декоративные металлические решетки – по эскизам мастера художественной ковки Эдгара Брандта. Подобные интерьеры, переформатированные под голливудскую картинку, можно увидеть в особняке Джея Гэтсби, в экранизации «Великого Гэтсби» с Леонардо Ди Каприо.
В декоративных мотивах: будь то подстолье туалетного столика Рульманна или металлические плакетки Брандта, было много от античности. Фигуры напоминали греческие вазы и римские рельефы из храмовой архитектуры, а сами интерьеры походили на дома патрициев в Помпеях, как мы их видим на исторических реконструкциях. Вместе с тем здесь много и от японского искусства, и от Древнего Египта (в 1922-м как раз открыли гробницу Тутанхамона, что породило настоящую египтоманию в искусстве), и от африканских ремесел. Ар-деко при всей его цельности и узнаваемости не зря называют эклектичным стилем.
А еще если присмотреться к башенкам входных ворот Экспо (они назвались «Ворота славы»), встречавших гостей выставки, невольно видишь узнаваемое завершение Крайслер билдинг, одного из главных нью-йоркских небоскребов ар-деко.